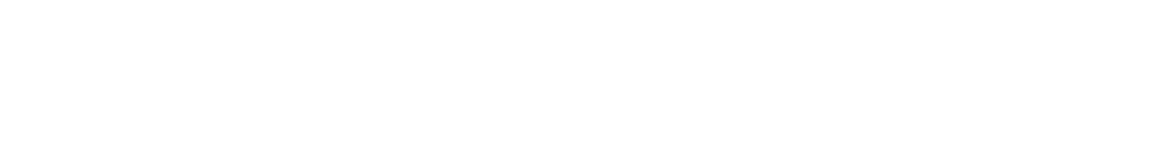Inna Kabysh (translated by Katherine E. Young)
ЩЕЛКУНЧИК
А смерть — это средство передвижения.
Потому что всюду жизнь,
и стоит только дёрнуть за шнур на шубе,
как из рукава спустится лесенка,
поднявшись по которой, можно выйти на свет,
не делимый на тот и этот,
потому что Мышильда бежала,
хвостиком махнула —
Берлинская стена упала и разбилась.
И все увидали, что её нет.
Как нет мёртвых.
Есть только живые,
и можно ездить друг к другу в гости.
И я, вся в белом,
отправляюсь к своему жениху
и перевязываю ему раны.
А потом он, в новенькой форме,
приезжает с ответным визитом
и привозит мне хлеб и вино.
А потом мы вместе садимся в золотую карету
и уезжаем,
и я, выглянув из окошка,
машу белым носовым платком
отцу,
матери,
брату,
няне —
всем, кто остаётся,
«Ich sterbe!..»*,—
что значит «я уезжаю».
И они не плачут.
Потому что кругом
одна сплошная,
в сущности, очень малая
родина,
и просто невозможно уехать далеко.
*Я умераю (нем.), в частности, последние слова Чехова
The Nutcracker
So death—it’s a means of transport.
Because life’s everywhere,
and all we have to do is tug at the cord of a fur coat
for a stepladder to descend from the sleeve
and, climbing up, we can enter a place
not divisible into this world and that,
because the Mouse Queen ran away,
waving her tail—
the Berlin Wall fell and shattered to bits.
And everyone saw that it didn’t exist.
Just as the dead don’t exist.
There are just the living,
and we can visit one another back and forth.
And I, all in white,
set out toward my groom
and bind up his wounds.
Then he, in a brand-new uniform,
arrives to return the visit
and brings me bread and wine.
Then we sit together in a golden carriage
and set off,
and I, peering out the window,
wave my white handkerchief
to father,
mother,
brother,
nurse—
to everyone who remains,
“Ich sterbe!…”*—
which means, “I’m leaving.”
And they don’t cry.
Because in essence,
all around
is a tiny, entire
little homeland,
and it’s simply impossible to go very far.
*“I am dying” (German), Chekhov’s last words.